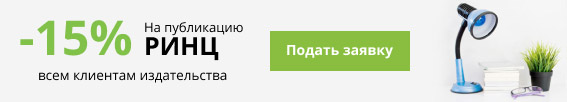ПОЭТИКА СИМВОЛИЗМА В РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

ПОЭТИКА СИМВОЛИЗМА В РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА
Проскуряков Максим Русланович
д-р филол. наук, проф., Школа иностранных языков и литератур,
Шаньдунский университет,
Китай, Шаньдун
THE POETICS OF SYMBOLISM IN THE EARLY WORKS OF ALEXEY REMIZOV
Maksim Proskuriakov
Doctor of Sciences (Philology), Professor, School of Foreign Languages and Literature, Shandong University,
China, Shandong
АННОТАЦИЯ
Стиль Алексея Ремизова сложно соотнести с каким-либо литературным движением или течением из-за уникальности и разнообразия его произведений. В годы своего становления он был тесно связан с движением русских символистов, и его ранние художественные произведения несут на себе отпечаток символистских экспериментов в прозе. Стиль автора является доказательством, что он интересовался символистским методом. Близость к русскому символизму произведений Ремизова выходит за рамки вопроса о прозаической форме. Изучение подхода автора к жанру романа показывает, что он смог создать роман отличный от русского реалистического романа XIX века. Данное исследование пытается объяснить новаторские характеристики произведений Ремизова в контексте символизма.
ABSTRACT
It is difficult to identify Remizov's style with any literary movement or movement because of the uniqueness and diversity of his works. In his formative years, he was closely connected with the Russian Symbolist movement, and his early works of fiction bear the imprint of Symbolist experiments in prose. The author's style is proof that he was interested in the Symbolist method. The proximity of Remizov's works to Russian Symbolism goes beyond the question of poetic form. A study of the author's approach to the genre of the novel shows that he was able to create a novel different from the Russian realist novels of the nineteenth century. This study attempts to explain the innovative characteristics of Remizov's works in the context of symbolism.
Ключевые слова: стиль, поэтика символизма, реализм, прозаическая форма.
Keywords: style, symbolist poetics, realism, prose form.
Роман «Часы» был написан в 1903-1904 годах и впервые опубликован в 1908 г. Критика достаточно холодно встретила произведение, отмечая его необычную поэтическую форму: «Этот роман трудно читать, и все-таки невозможно не дочитать до конца. Редко такое большое художественное дарование сказывается в такой странной, можно сказать, чудовищной форме. Здесь есть фабула и совершенно реальная, есть живые лица, и они очерчены превосходно; но рассказ ведется так дико-причудливо, такими капризными зигзагами, психология действующих лиц так осложнена намеками, юродством, фантастикой, и, главное, внешняя манера изображения - слог, разговор, — так ненужно эксцентрична, что на каждой странице нам хочется с досадою бросить книгу. Зачем юродствовать, отчего не говорить человеческим языком? Но, странное дело: по мере чтения вы все менее чувствуете, что это юродство - не нарочитое, не декадентский умысел, а искренняя и честная манера странного художника, который иначе не умеет выразить то, что ему нужно было выразить [2, C. 769]. Отрицательные отзывы последовали и от писателей реалистов: «Из всех представителей крайнего импрессионизма в современной русской литературе Ремизов, пожалуй, самый крайний. Он не представляет себе явлений действительной жизни иначе как сквозь какое-то зловещее, уродливое, фантастическое и таинственное стекло» [3]. Несмотря на неблагожелательное отношение критики к роману Ремизова в момент его выхода, он остается незаменимым произведением для понимания эволюции русского романа.
В романе «Часы» Ремизов успешно трансформировал классическую структуру русского реалистического романа [1] с его социальными, интимными и идеологическими компонентами в модель русской символистской фантастики [4]. Произведение имеет множество существенных особенностей. Повествовательный мир, созданный Ремизовым, вращается вокруг изолированного главного героя, который отчужден от своего окружения и замкнулся в своем психическом существовании, а его восприятие реальности искажено чрезмерной умственной активностью, галлюцинациями и кошмарами [5]. В основе каждого персонажа лежит контраст между тусклым физическим существованием и ярким внутренним миром, отличающимся фантасмагорическими характеристиками.
Роман «Часы» важен тем, что опубликован одновременно с двумя другими значительными романами русских символистов - «Мелкий бес» (1908) Федора Сологуба и «Серебряный голубь» (1909) Андрея Белого. Эксперименты Ремизова с романной формой в «Часах» столь же экстремальны, как у Сологуба и Белого, если не более. Если последние два автора предложили существенные модификации русского романа, не нарушая его устоявшихся тем и условностей, то Ремизов создал жанровые рамки, которые ознаменовали более решительный отход от нормы XIX века. Одной из главных особенностей «Часов» является то, что он ставит под сомнение концепцию русского реализма и его писательские условности [6].
Примечательно, что позднее Ремизов переработал некоторые из своих старых произведений, в частности «Часы», для включения в сборник, выпущенный издательством «Шиповник» в 1912 году. Обновленное издание «Часов» наглядно демонстрирует, что в то время Ремизов отказался от символизма. В измененном варианте Ремизов стремился усилить социальную и психологическую составляющие рассказа, тем самым снижая его символическую ценность. Поскольку обновленное произведение, было признано окончательным и является версией, более доступной для современного читателя, вероятно, нет ничего удивительного в том, что «Часы» не были поставлены в один ряд с другими важными романами русских символистов. Независимо от качества двух версий «Часов», издание «Eos» 1908 года более ясно показывает, что Ремизов был близок к русскому символизму и внес свой вклад в развитие новой поэтики романа [7].
Книга рассказывает о злоключениях семьи Клочковых, чья часовая лавка в провинциальном городке находится на грани разорения. Повествование начинается после того, как владелец часовой мастерской Сергей Андреевич Клочков уехал из города, чтобы избежать требований кредиторов. Это обстоятельство вынуждает Христину Федоровну взять на себя управление разваливающимся предприятием и обеспечить благополучие остальных членов семьи - задача невыполнимая, потому что семья неисправима: отец Сергея - безнадежно дряхл, младший брат Костя - безумен, сестра Катя - смертельно больна. Христина Федоровна находится в тяжелом положении, поэтому обращается за помощью к приятелю Сергея - Нелидову. Она даже надеется завязать с ним романтические отношения.
Из этого краткого изложения сюжета романа видно, что он имеет черты реалистического произведения. Деградация провинциальной семьи и дополнительное измерение любовного треугольника создают прочную основу для произведения в социальной форме, которую предпочитал русский реализм XIX века [8]. Начальная диспозиция сюжета произведения (разорение часовой мастерской) служит скорее метафорой духовного банкротства семьи Клочковых, чем основой для социально ориентированного сюжета. Именно поэтому слово «часы» занимает важное место не только в названии романа, но и во всем тексте, где оно проявляет характерную семантическую двусмысленность словесного символа: оно используется для обозначения «часов» как конкретного проявления времени, но также обозначает время абстрактное, которое оказывает роковое влияние на судьбы героев. Символическая картина часов и более широкая символизация внешнего мира - результат лирических отступлений повествователя, в которых неодушевленные предметы наделяются человеческими чертами и становятся проявлениями духовного вырождения человека. Это подчеркивается в описании интерьера часовой мастерской, — «Через наложенные на окна решетки виднелась без абажура жестяная лампа — бессонная сторожиха. Она стояла под разинутой металлической пастью огромного граммофона. Граммофон замирал в зевоте. А вокруг по стенам, засыпая, часы ходили, такие странные и чудные: передернутые судорогой, с кислой улыбкой, обиженные, горькие, насмехающиеся. И тускнели в своем забытьи всевозможные золотые вещицы, драгоценные безделушки, теперь неприглядные, напоминая о том непременном конце, который в свой час всякому придет и не спросит» [9, C. 14].
Благодаря оживлению неодушевленных предметов создается впечатление, что создан волшебный мир. Тем не менее, насыщенный метафорами стиль создает двусмысленность повествования [10].Таким образом, Ремизов придерживается канонического символистского приема - не проверять и не подтверждать то, что кажется сверхъестественным, и создает рассказ, который лишь намекает на то, что в вымышленной вселенной действуют сверхъестественные силы [11].
В целом, построение внешнего мира в «Часах» отличается смысловой неполнотой, мотивы, которые обычно присутствуют в реалистической литературе, опущены. Мы видим не всеобъемлющий и конкретный внешний мир, а скорее пространство, сформированное по принципу типизации, символизирующее основные заботы провинциальной жизни: транспорт, общение, торговля, смерть и пьянство [12]. Примечательно, что за этим следует описание города, подверженного воздействию трансцендентных сил: «Рвутся стальными когтями железные крыши, трещат под напором ворота, одиноко, бездомно кличет поезд в поле, гудит — развевается проволока, — кто-то в железах с гиканьем скачет, скоком выламывает рельсы, валит столбы и бьет и волочит» [9, C. 57].
Система персонажей Ремизова новаторская, так как состоит из множества личностей, разделенных ограничениями собственного сознания [13], и, как следствие, не способных поддержать друг друга. Даже второстепенные персонажи повествования, такие как пожилой Клочков и больная Катя, напуганы образами духовной пустоты и смерти. Обращение Ремизова к душевной жизни этих персонажей является примером подхода первого поколения, или декадентов, символистов, поскольку он отвергает перспективы реализма и изображает разум как хранилище внутренних голосов, которые не только замкнуты во внутреннем мире, но и лишены объективной реальности.
Страх и агония объективны, но они также демонстрируют бессилие главных героев перед лицом трансцендентных сил, которые всемогущи.
Иномирие обыденных обстоятельств жизни героев наиболее ярко проявляется в том, что Ремизов делает акцент на снах. В фантастическом мире автора сны играют важную роль как психические явления [5]. Несмотря на то, что сны часто связаны с внешними обстоятельствами жизни героев, их фантасмагорический и часто сюрреалистический аспект позволяет предположить, что их происхождение лежит за пределами обычного человеческого опыта. Кроме того, тот факт, что все сны в романе содержат пророческий элемент, демонстрирует их скорее сверхъестественную, чем психологическую значимость. Изучение историй Кости, Христины Федоровны и Нелидова - наиболее эффективный способ определить, в какой степени большая внутренняя изоляция героев и проистекающие из нее призрачные события доминируют над их рациональными мыслями, поступками и отношениями.
Костя Клочков безнадежно заперт в мире, где господствуют внутренние голоса и галлюцинации, из которого он никогда не сможет выбраться. Его одиночество - скорее результат безумия, чем намеренная попытка создать вселенную, сосредоточенную на самом себе.
Изначально разделенный разум Кости изображается как семантическое пространство, в котором он общается с внутренними комплексами и Альтер-эго. Эти психические свойства - сущности, наделенные одушевленными качествами и способностью к общению: «Что думал Костя, чего хотел? — окликали его мысли случайными голосами, придерживали и отпускали. Шел он, потому что должен был идти, сворачивал, потому что кто-то направлял на повороты, стоял, потому что удерживала чья-то рука» [9, C. 13]. Костя открывает для себя великую трансцендентную истину - власть времени над человеческой судьбой - только через собственный измученный разум, и все его попытки бороться с влиянием времени на собственную жизнь лишь усугубляют его одиночество: «Вот он, имеющий власть над часами, запретивший смеяться, грозивший всему миру одиночным заключением, приковывающий к себе людей лягушачьей лапкой, он больше уж не верит в эту свою великую власть: часы по-прежнему идут, по-прежнему смеются над ним, а та, которую он так хочет, так же далека от него, как и раньше» [9, C. 55].
Фиксация Кости на собственном физическом уродстве воплощается в галлюцинации, гротескной и угрожающей фигуре «носатого», которая внезапно появляется перед ним на улице и преследует его, еще больше побуждая Костю восстать против времени. Носатый заставляет его принять видение реальности, которое настолько запутано, что его попытки сформировать внешнюю реальность в соответствии с требованиями его психического существования приводят к странному и нелогичному поведению [14].
Костя пытается уничтожить время, переведя городские часы на башне так, чтобы они били в неправильное время. Он считает, что, совершив такой поступок, он сможет подчинить время своим законам и лишить его власти, тем самым установив новый вселенский порядок на благо человечества. Его постоянные неудачи в попытках преодолеть течение времени в конце концов привели его к самоубийству. Не найдя способа покончить с жизнью, он интерпретирует это как «внешнюю форму» отсутствия самой смерти. Это приводит его к смехотворному утверждению о бессмертии и даже превосходстве над смертью.
Кроме того, страх Кости перед внешней реальностью распространяется на слова и поступки других персонажей. Он усваивает метафорические и отрывочные выражения, придумывая для них контекст. Таким образом, он еще более усиливает свое внутреннее смятение и одиночество: «Стрекача-то, брат, дашь, а сцапают — насидишься в единичном, — продолжал свое мастер. — Как в единичном? — А так, очень просто, за эту самую несостоятельность-то посадят голубчика, изволь-ка там крысам хвосты лизать, да считать тараканьи шкурки. — Тараканьи шкурки? — переспросил Костя, и тревога охватила его душу, он выпустил рукав мастера, да во всю прыть пустился за Христиной Федоровной» [9, C. 15].
За второй попыткой Кости стереть время, манипулируя механизмом городских часов, следует второй эпизод, иллюстрирующий, как он метафорически воспринимает речь и затем проецирует образы обратно во внешний мир. Осуществляя свои планы, он возвращается с часовой башни, и, когда проходит мимо полицейского и нескольких бродяг, сидящих у костра на городской площади, подслушивает обрывок разговора, который подтверждает его ощущение миссии освободителя человечества от тирании времени: «На площади горел костер, и жались к огню городовой и какие-то бродяги. Кто-то из них сказал: — Времени больше не будет. Костя кивнул головой в знак своей милости: — Вы правы, его больше нет и это я сделал вас свободными, отныне все можно. Так шел он, одобряя и поощряя своих подданных, не замечая времени» [9, C. 85–86].
Эта непостижимая связь между внутренним и внешним миром сопровождается еще более странным соответствием между уникальными психическими измерениями главных героев. Когда Костя встречает Нелидова, который едет на вокзал, чтобы совершить самоубийство, Нелидов упоминает о том, сколько времени ему осталось. Это нарушает запрет Кости на упоминание времени, которым, как ему кажется, он овладел и отрицание которого делает смерть бессильной перед жизнью. Соответственно, Костя обвиняет Нелидова в том, что тот «Повинен смерти!» за упоминание времени. Это в точности совпадает с оценкой Нелидовым самого себя, когда он придумывает разумную, но явно иррациональную причину для лишения себя жизни. Такое слияние внутренних миров укрепляет мысль о том, что жизнь главных героев «Часов» управляется извне.
Кошмары Кости свидетельствуют о его замкнутом мышлении. «Снился Косте сон, будто он вырвал себе все зубы и оказалось, не зубы носил он во рту, а коробочку из-под спичек, да костяную прелую ручку от зубной щетки, и ноги будто у него не ноги, а окурки. Вот лезет он на этих окурках в пасть невиданно огромного граммофона. Трудно ему, труба гладкая, и режет глаз металлический резкий блеск. А нельзя не взбираться. Изодранные руки соскальзывают, и весь он назад катится, но упорно цепляется» [9, C. 29]. Сон Кости следует рассматривать как отражение его экзистенциальной тревоги, а именно страха погрузиться в пучину небытия.
Христина Федоровна испытывает разрушительное воздействие времени более непосредственно, чем другие изолированные персонажи романа. Ее внутреннее состояние и последующий уход в себя объясняются явной психологической причиной, проистекающей из внешних обстоятельств. После его бегства мужа она вынуждена взять на себя обязанности по ведению дел часовой лавки, а также взвалить на себя заботы об остальной несчастной семье Клочковых: престарелом отце, придурковатом Косте и умирающей Кате. Наконец, что самое важное для нее, уход Сергея означает потерю любви. Ее ожидания найти финансовое и эмоциональное спасение в Нелидове не оправдались, поскольку эгоизм Нелидова мешает им иметь полноценные отношения. Христина Федоровна, как и другие главные герои, в конечном итоге становится жертвой законов времени, которые определяют ход человеческой судьбы и подвергают ее духовному мучительному повторению. Даже будучи спровоцированным внешними обстоятельствами, ее кризис обнаруживает эту трансцендентную перспективу, которая усиливается в тех частях повествования, где в центре внимания оказывается ее внутреннее существование.
В отличие от совершенно непредсказуемого и импульсивного психического существования Кости, внутренний мир Христины Федоровны демонстрирует почти рациональное и диалектическое выражение ее экзистенциальной тревоги, и она часто осмысливает свое внешнее затруднение в абстрактных терминах. Вначале внутренний мир Христины Федоровны раскрывается через повествование, опосредованное рассказчиком, который проявляет склонность к косвенному, свободному стилю изложения. В ее воображении постоянно чередуются видения надежды и уныния. Например, когда она думает об отъезде Сергея, она создает в своем воображении некую аллегорию, а не думает об этом конкретно: «Уехал ее муж Сергей, брат Кости, он не мог не уехать, — некуда было деваться: дела так пошатнулись, платить нечем. И шла она мыслью шаг за шагом весь этот день с минуты, когда неизбежность окружила ее, загородив пути. Оставалась лазейка, одно спасение — вера: произойдет что-то и поставит все на прежнее место, произойдет чудо. Но и этот выход захлопнулся тогда, на вокзале, — чудо не явилось» [9, C. 7–18]. Здесь кризис Христины Федоровны и его перерастание в экзистенциальный конфликт изображены с помощью экспрессивных приемов, раскрывающих абстрактный образ мыслей, обусловленный одиночеством. В словесном описании этого кризиса проявляются мистические нотки, характерные для философских размышлений героев символистского романа. В сознании Христины Федоровны предыдущий опыт сливается воедино через ассоциацию понятий и выступает в качестве аналогии для ее нынешнего затруднительного положения.
Радикально отличаясь от событий внутреннего мира Христины Федоровны, часы словно ведут с ней монолог, раскрывая загадки, лежащие в основе возникновения и развития ее дилеммы. В романе подразумевается, что часы обладают способностью говорить: «Христина Федоровна сжала руками лоб, хотела замкнуться от этих ворвавшихся назойливых выкриков и скрипучих голосов, — от них вся стена, дрожа, колебалась. Но часы не могли остановить своего разговора, ни успокоиться. Шли, шамкая, топоча и постукивая, — приставали к ней по-человечьему» [9, C. 40].
Остается неясным «обращение» часов к Христине Федоровне. Отсутствие языкового знака, обозначающего психический опыт (например, «подумалось» или «показалось»), позволяет предположить, что здесь создан сверхъестественный контекст. Это усилило бы ту же идею, на которую намекают лирическое повествование автора в других местах произведения. Учитывая, что неодушевленные предметы заменяют человеческие отношения во вселенной «Часов» и что это замещение происходит внутри, «монолог» часов можно также интерпретировать как дальнейшее проявление замкнутого на себе мышления Христины Федоровны. Однако двусмысленность сохраняется намеренно, поскольку внутренний мир главной героини изображается как потенциальное место проявления сверхъестественного. В психической жизни Христины Федоровны часы выступают в роли «представителей» времени и судят ее за нарушение его законов вместо молчаливого воплощения времени в мире природы [15]. Ей как будто дано редкое видение трансцендентного источника ее внутреннего затруднения. Монолог часов имеет прямое отношение к внешним проблемам, таким как разорение часовой лавки, потеря молодости и красоты, несчастье Сергея, предательство друзей, но он связывает их все и придает им символический смысл.
Христина Федоровна, как и другие герои, переживает психические явления, такие как сны и галлюцинации. «Снилось ей, она на вокзале. Дожидается поезда. Полный вокзал. Кто-то говорит: это молодых провожают. Вдруг раскрывается дверь, и толпа маленьких девочек в белых платьицах, друг с дружкой за руки, кольцом окружают ее. В это время звонок: первый, второй, третий. И какое-то предчувствие, — она опоздала и поезд уйдет, — подбрасывает ее. Она прорывает живое кольцо, расталкивает, но, ступив на перрон, не видит уж поезда, видит: в свете каких-то невиданных рефлекторов движется по полотну, словно видение, процессия, — все те же девочки в белых платьицах, а посреди них невеста, только лица нельзя разглядеть, лицо закрыто фатой. И опять звонок: первый, второй, третий. И кто-то ясно и отчетливо называет ее по имени» [9, C. 60]. Этот сон имеет интригующее значение в двух совершенно разных смыслах. Во-первых, психологически его можно интерпретировать как проявление страха перед Сергеем, чей отъезд на поезде становится постоянно присутствующим образом в ее сознании. Христина Федоровна пробуждается ото сна от звука выкрикиваемого имени, за которым следует странная галлюцинация: «Вздрогнув, будто от страшного толчка, Христина Федоровна открыла глаза и тотчас ясно почувствовала: тут в темноте сидит кто-то и, не имея уж силы сдержаться, безутешно рыдает, — и пришел он украдкой и рыдает украдкой, рыдает как тот, кто любит и никогда не встретит ответной любви» [9, C. 61]. Галлюцинация, как обычно, передана в неопределенной манере. Однако ссылка на неспособность Христины Федоровны найти ответную любовь раскрывает личность странного человека в галлюцинации: это ее собственный двойник. Как у Кости есть двойник «Носатый», который является гиперболической проекцией его собственной отвратительной и глупой личности, так и ее экзистенциальные муки проявляются в виде мысленного образа самой себя [13].
Взаимодействие Христины Федоровны с Нелидовым особенно ярко демонстрирует внешние проявления их различных состояний внутреннего одиночества. Пытаясь освободиться от душевного гнета, который на нее наложили внешние обстоятельства, и искупить потерю любви, вызвавшую ее уход в себя, она идет к Нелидову, у которого ищет и материального спасения, и любви. Несмотря на то, что она и Нелидов испытывают друг к другу глубокое сочувствие, их собственные внутренние кризисы сделали отношения бесплодными, и ни один из них не может эффективно разговаривать с другим. Через бесплодные попытки Христины Федоровны и Нелидова преодолеть свое одиночество Ремизов предложил в русской художественной литературе особый взгляд на человеческие взаимоотношения. Катастрофическое завершение отношений зависит от психологического суждения каждого героя о другом и о самой любви. Когда Христина Федоровна впервые обсуждает свои проблемы с Нелидовым в надежде найти у него понимание и эмоциональную поддержку, постоянное чередование их разных внутренних настроений обнажает пропасть, разделяющую их. С одной стороны, это духовное бессилие Нелидова и его неспособность сформулировать свое внутреннее состояние: «Все, что он мог бы сказать, было не тем и не нужно. Не нужно, — только запутает и растравит» [9, C. 58]. Христина Федоровна, несмотря на страстное желание полностью выразить себя Нелидову, говорит с ним только абстрактно. В итоге она передает не свою привязанность к Нелидову, а скорее продолжение собственных убеждений.
«Непонятна мне жизнь, когда нет вас, — говорила она, — я живу и делаю все сама не своя. Жду вас, и не вас, а ваши слова. Слова мне нужны, голос. Я не вижу вас, только слышу, а вижу другого. А когда мне мешают слушать, не узнаю уж себя... Страшно за себя» [9, C. 58].
Нелидов отвечает Христине Федоровне не словами утешения и понимания, а странным и непонятным сном. Точно так же он проецирует только аспекты своего внутреннего состояния. Они не общаются, а когда встречаются, кажется, что они ладят, но это только поверхностно.
Нелидов - чрезвычайно интригующий и, во многих отношениях, типично декадентский тип [16]. О его физической жизни, в общем-то, ничего не известно, а сам он - мозговой человек, чья психическая жизнь содержит множество внутренних характеристик. Безусловно, Ремизов придерживался основной символистской стратегии неясности, наиболее строго представляя характер Нелидова, подчиняя мотивы бескомпромиссной замкнутости его личности [7]. Внутреннее одиночество Нелидова вызвано определенными событиями в его личной истории, хотя они никогда не рассматриваются подробно, а лишь упоминаются в виде нескольких разрозненных и косвенных ссылок. Некоторые из этих загадочных событий могут быть собраны воедино только в его беспорядочных мыслях, дневных снах и кошмарах.
Способ интроспективного размышления Нелидова демонстрирует суть мышления. Он изолирует себя от внешнего мира, чтобы создать и взрастить личное внутреннее видение до концептуального совершенства. Детская песня, напоминающая о младенчестве, вводит его в блаженную задумчивость в начале «Часов». Возвращение к детской радости является для него идеалом и убежищем от бессмысленности обыденности.
«Прыгало сердце от радости, — ею просвечивает тело ребенка, когда весь он, проникаясь, обливается этим блещущим теплом и этим светом теплым. Как почувствовал Нелидов на краткий миг всю свою близость к нему! Это то самое... — о нем грезил он для себя и других всю жизнь среди гвалта и свиста безостановочной борьбы, — ей не видно конца и нет оправдания» [9, C. 31].
Здесь внутреннее видение Нелидова поднимается до метафизической сферы. Хотя он пытается вернуть себе сущность своего детского «я», у него нет конкретных воспоминаний о собственной юности. Вместо этого он переживает прозрение, которое доминирует над всем его психическим существованием и становится основой его идеи счастья. Предрасположенность его к пониманию счастья в терминах недостижимых универсалий является особенно характерной и декадентской чертой [6]. По-видимому, смерть, о которой идет речь, — это смерть бывшей невесты Нелидова. И снова в рассказе опускаются обстоятельства связи и предшествующие события, заменяясь повторением мотива казни.
«Нелидов опустился на стул, зажмурил глаза, и вместе со стулом понесло его, как на крыльях. Та, которую он любил... ее не было. И было тогда так, будто не один, а с целым народом продирается он к лобному месту, к месту казни. Оторопевшие, они жмутся друг к другу и одного желают, одного ждут — смерти» [9, C. 36].
Нелидов мысленно реконструирует казнь как бред или сон. За загадочным упоминанием о его невесте (или, скорее, о ее смерти) быстро следует сцена казни. Так и не выяснено, происходила ли казнь на самом деле или он присутствовал при ней. Хотя на это намекает фраза, «та, которую он любил... ее не было», это сразу же ставится под сомнение использованием прошедшего времени «было» и странным переходом к настоящему времени, что предполагает внутреннюю реконструкцию события. Чувство надвигающегося ужаса, создаваемое зрителями, предвкушающими смерть, достигает кульминации в ужасающей сцене.
«И вот она встает на лобном месте. Сгорбленная, маленькая совсем старушонка и, как дитя малое, цапается тоненькими костлявыми ручками, постукивает костыликом, а сухими обтянутыми пальчиками помачивает себе запекшийся темный рот. Ничего не говорит, только пожевывает и улыбается...» [9, C. 36].
Сразу после этого воспоминания Нелидов вспоминает страшный сон, который, как и большинство снов в «Часах», характеризуется предчувствием и предвидением гибели.
«Он стоял на галерее собора и, перегибаясь через перила, чувствовал, как, качаясь, они тянули его вниз вместе с собой. Но он не мог оторваться, не смотреть вниз на возвышение, высоко покрытое матовой парчой. Подымалась — ходила парча, будто жила под ней живая грудь. Всенощная давно кончилась, но народ не расходился, все ждали чего-то, устремляясь к этому страшному царскому месту» [9, C. 35].
Этот сон показывает как интерес Нелидова к страданиям и смерти, так и их универсальное значение. Образ разрушающегося собора перекликается с его предыдущим аллегорическим описанием утраченного счастья как разрушенного храма [17]. Его собственная смерть предсказывается заключительной частью сна, падением с галереи, которое предвещает его прыжок с железнодорожной платформы на пути поезда.
Альтер-эго Нелидова не позволяет ему отделить чувство любви от глубокой скорби его личной истории, которая является основным препятствием. Оно убеждает его в том, что смерть возлюбленной была не только следствием внешнего фактора, но и во многом объяснялась его чрезмерным собственничеством: «А когда бывал с нею, ты помнишь, ты хотел... ты любил. Вокруг нее сияние... ты подошел бы — для тебя ведь не было в ней ни одного уголка, которого ты не хотел бы — ты подошел бы, да, ты хотел всю ее, чтобы вся она была в тебе, потому что любить и не хотеть овладеть любимым невозможно. А овладеть и уничтожить одно и тоже» [9, C. 63].
Нет никакого объяснения связи между собственническим отношением Нелидова к своей девушке и причиной ее смерти. Возможно, что такой связи и не было, а душевное расстройство заставляет его принять безличную, абстрактную интерпретацию своей истории и пережить тяжесть ответственности за смерть своей невесты независимо от этого.
Последние страдания Нелидова заключаются в непрекращающемся нападении внутренних голосов и галлюцинаций. Как и Костю, его мучает внутренний голос, принимающий неясную одушевленную форму безымянного «чудовища», которое насмехается над его неудачами. Он ведет беседу с «чудовищем», которое обвиняет его в том, что он обманывает себя и Христину Федоровну ложными надеждами на любовь. Его внутренние терзания не только обретают форму и голос, но и суицидальное предложение передается в виде манящей галлюцинации: «А за стеной кто-то, крадучись, уж вколачивает гвоздь, так вколачивает, чтобы, повесив петлю, да в петлю» [9, C. 79].
Лицо Нелидова с его собственной кончиной усиливается его «формальным» смертным приговором. Сначала «чудовище» произносит фразу «Повинен в смерти!», которая затем повторяется, указывая на внутреннюю фабрикацию Нелидовым анонимной внешней реальности. Этот приговор настолько абсолютен, что он может подчиняться только требованиям своего психического существования, через которое «высшие» силы осуществляют свой контроль.
Алексей Ремизов остается одной из самых не поддающихся классификации литературных фигур начала двадцатого века. Его стиль тщетно пытались соотнести его с каким-либо литературным направлением или течением из-за уникальности и разнообразия его произведений. Однако в годы своего становления он был тесно связан с движением русских символистов, и его ранние художественные произведения, опубликованные между 1900 и 1912 годами, несомненно несут на себе отпечаток символистских экспериментов в прозе [7]. Лирический и ритмический стиль языка автора является лучшим доказательством того, что он соотносится с символистским методом написания художественной прозы. При ближайшем рассмотрении произведений Ремизова этого периода выясняется, что их близость к русскому символизму выходит за рамки вопроса о поэтической форме. Изучение подхода автора к жанру романа, в частности, показывает, что он, как и его современники символисты Андрей Белый и Федор Сологуб, смог создать роман, концептуально, структурно и стилистически отличный от русского реалистического романа XIX века, что определяет новаторские характеристики этого произведения в контексте символистской беллетристической поэтики.
Список литературы:
- Проскуряков М.Р. Размышления над источниками зла в творчестве Ф. М. Достоевского // Мир науки, культуры, образования. Россия, Горно-Алтайск: Редакция международного научного журнала «Мир науки, культуры, образования», 2020. № 4 (83). C. 359–362.
- Гершензон М. О. Алексей Ремизов. «Часы». Роман. // Вестник Европы. Vol. 8. C. 769–771.
- Куприн А.И. Алексей Ремизов. «Часы» // Современный мир. 1908. № 7. C. 125–127.
- Лейдерман Н. Л. Эстетические принципы экспрессионизма и его судьба в русской литературе // Филологический класс. 2007. № 18. C. 12–18.
- Сергеев О.В. Сновидения персонажей как скрытый психологический фактор драматизации художественного пространства в романе А. М. Ремизова “Часы” // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2018. № 2. C. 131–138.
- Обатнина Е. Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя. М.: Новое литературное обозрение. Вып. LХХІ., 2008. 298 c.
- Friedman J.P. Beyond symbolism and surrealism: Alexei Remizov’s synthetic art. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2011. 286 p.
- Проскуряков М.Р. Еще раз о народе В. Соловьева // Сб. науч. тр. “Язык и ментальность”. СПб: Изд-во СПбГУ, 2004.
- Ремизов А.М. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 4. Часы. М.: Русская книга, 2001. 560 с.
- Aptekman M. The problem of language and reality in Russian modernism: The conception of mirotvorchestvo in A. Remizov’s Rossiya v pis’men // Sign Systems Studies. University of Tartu, Department of Semiotics, 2003. Vol. 31, № 2. P. 465–482.
- Королева В.В. “Гофмановский комплекс” в романе А. Ремизова “Часы” // Новый филологический вестник. Россия, Москва: ООО «Издательство Ипполитова», 2021. Т 58, № 3. C. 432–444.
- Ефремова О. А. Пространство повестей А. М. Ремизова 1910-х годов в онейрическом аспекте: 1 (125) // Омский научный вестник. 2014. Т. 125, № 1. C. 130–133.
- Жулькова К.А. Миф А. М. Ремизова о Гоголе // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7, Литературоведение. Россия, Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук», 2020. № 3. Т. 166–170.
- Proskuriakov M., Li L. The Ethnomental Components of F.M. Dostoevsky’s Works // rupkatha. 2020. Vol. 12, № 6. P. 1–19.
- Проскуряков М.Р. Оппозиция “свой - чужой” в дискурсе политических коммуникаций. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2015. С. 40–43.
- Niqueux M. Алексей Ремизов: исследования и материалы / Aleksej Remizov: studi е materiali inediti // Revue des etudes Slaves. Pers?e - Portail des revues scientifiques en SHS, 2004. Vol. 75, № 3. P. 606–608.
- Вахненко Е. Е. Храмовый топос в автобиографическом пространстве А. М. Ремизова // Сибирский филологический журнал., 2011. № 4. С. 114–121.